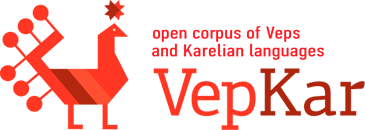Texts
Return to review | Return to list
Igäine musto oman muan puolistajile
history
October 30, 2025 in 13:37 Александра Родионова
- changed the text of the translation
Мой дедушка - Ермолаев Фома Матвеевич жил в д.^ Рубчойла. Жена - Жукова Александра Григорьевна, родом из деревни Нижняя Салма. Жили они в родительском деревянном двухэтажном доме, где под одной крышей были жилые комнаты, хозяйственные пристройки : кладовые, хлев для скота, сеновал, к которому был пристроен деревянный настил , чтобы лошадь могла завозить сено под крышу для хранения на зиму. Рядом с домами огород , амбар, для хранения зерна, ягод в бочках и грибов, банька по-чёрному. Я была маленькой, ходила в неё мыться с мамой и бабушкой. Едкий дым , когда топилась баня, доводил до слёз. Во время посещения бани сажа цеплялась за руки, ноги,| а если темно, тогда пользовались лучиной или свечкой. В хозяйстве у карел имелась корова, телёночек; овцы, свиньи, куры. Трудолюбивые были, все умели.. В доме добротно построенные дедушкой Фомой скамейки, табуреты, стол, кровать, диван, шкаф, кухонная утварь. Изготавливал - плуги, соху, для вспашки земли, черенки для лопат, вил, топоров, а также умел плести корзины из лучины и мётла из веток деревьев, как для себя , так и для соседей, но и в помощь колхозу. В нашей деревне Рубчойла был колхоз « Победа». И председателем был мой дедушка - Фома Матвеевич. Но, когда, началась война, он ушёл защищать Родину, а печать и документы , где записаны и трудодни отдал Никитиной Марии Фёдоровне - счетоводу колхоза. До окончания войны она сохранила документы. У дедушки и бабушки, родились пятеро детей. Моя мама - Оля была самой младшей в семье (1935 года). Бабушку все звали «Шурачой», умела ткать половики, одной спицей вязать носки и рукавицы, пекла калитки вкусные, готовила еду, управлялась со скотиной, огородом. Очень любила ходить в лес по грибы, ягоды. В печи сушили мелкую рыбку - «сущик», а потом варили вкусные рыбные супчики, пекли рыбники. Мы маленькие, внуки, часто грелись на этой печи, спали после морозов. А ещё, с теплотой вспоминая, лёжа на печи, в такое время, как, приходили родственники сидели за одним столом, чаёвничали, пели песни,плясали. Было дружно и по-домашнему, с теплотой, душевно. Во время войны Дедушка Фома защищал город Ленинград на Пулковских высотах, все эти блокадные дни. Дедушке тогда было 46 лет. Зима 1941-42 г.^ выдалась очень морозная и снежная. Начался голод - 500 грамм хлеба, а потом и того меньше= это норма продовольственная была в день для солдат. На Пулковском рубеже были ожесточённые бои. Тогда был издан приказ: «Ни шагу назад. Не сдавать ни одного вершка земли на ближайших подступах к Ленинграду!» Самолёты всё время сбрасывали авиабомбы, шёл непрерывный обстрел артиллерии в течении дня и ночи». «Путь фашистам почти открыт, в этом нет сомнения, но вдруг происходит невероятное.^ Бронированная громада отборных частей вермахта задержана ополченцами и моряками на реке Воронке, под Урицком и Пулковом у стен Ижорского завода.» 27 января 1944 г.^ - снята блокада Ленинграда. Я горжусь своим дедом, который был там и вместе с воинами, солдатами не пропустил врага в город. Слава героям, слава воинам!!! Когда дедушка ушёл на фронт, бабушке пришлось эвакуироваться с детьми в Архангельскую область. С собой можно было взять только самое необходимое. Собирались быстро, в спешке. Взяли немного хлеба, одежды. Бабушка ещё взяла швейную машинку, зная, она пригодиться для шитья одежды в будущем (но её украли в последствии у бабушки). Очень она потом плакала и переживала. До города Петрозаводска добирались на лошадиных подводах, а далее на баржах. С воздуха бомбили вражеские самолеты. Они видели, как падали авиабомбы рядом с баржей, а одна попала прямо в цель.^ Было страшно, вой снарядов, гул самолетов - крики, плач. Чудом осталась жива моя мама Оля. Они плыли на барже и вот рядом с ними упал снаряд. Люди начали падать от взрывной волны в воздух, в воду, некоторые тонули, были и убитые. Большой чемодан подлетел, бельё вылетело, он широко открылся и мама влетела прямо в него. А так, как мама была и по возрасту (1935 г.р.) и по росту, её это спасло. В Архангельскую область они добрались, кое-как устроились.^ Жизнь была нелёгкая. Пока бабушка Саша работала, дети находились дома| - брату Мише было 8 лет, моей маме 6 лет. Первое время пекли лепёшки из крапивы, опилок, варили картофельные очистки. Мама вспоминая, рассказывая о войне плакала, по щекам текли слёзы.^ Нелегко, тяжело было на чужом месте. Голод, тоска по родному краю, да ещё обидно, называли местные по своему «ковырянные», т.е.^ эвакуированные. Мою маму подружка, которая тоже была эвакуирована с нашей деревни, Тася, позвала с собой пойти по домам.^ Вот они в простеньких платьицах с фартучками пошли.^ Заходя в дома просили пустить их помыть посуду, полы, присмотреть за маленькими детьми, хотя они сами были ещё маленькие. Одни прогоняли, дразнили, обзывали, но были и такие, что говорили: «Спойте лучше песенку». И мы пели, а у слушающих текли слёзы из глаз. Они нам в фартучки клали, то печенье, яблоки и хлебушек, вареные яйца. Мы радостные шли домой. Но, придя домой и разделив всё со своими братьями и сестрами, было очень мало. На следующий день, мы снова шли петь песни. Я всегда спрашивала у мамы, почему у тебя такой звонкий голос? Она пела красиво и на русском, и на карельском языке. Участвовала в выступлениях группы «КГБ» ( группа корзинских бабушек). Она мне отвечала, что в эвакуации голос развился и распелся. Когда в 1944 году освободили Карелию какая была радость, что можно вернуться в свою деревню.^ Были слёзы, но от радости. Дедушка Фома после окончания войны вернулся домой. Награжден медалями, а также медалью за «Блокадный Ленинград». Умер в 1977 году. Его старшая дочь, моя тётя Анна 1920 года рождения -тоже участница ВОВ была санитаркой, окончила войну рядовой. Там и познакомилась со своим будущем мужем, Филатовым Михаилом Леонидовичем.^ Он был артиллеристом, имел звание лейтенант. В феврале 1945 года, оказавшись в одной части, образовали семью и воспитали четверых детей. Помним подвиг твой, Ленинград! Слава героям!
October 30, 2025 in 13:36 Александра Родионова
- changed the text of the translation
Мой дедушка - Ермолаев Фома Матвеевич жил в д.^ Рубчойла. Жена - Жукова Александра Григорьевна, родом из деревни Нижняя Салма. Жили они в родительском деревянном двухэтажном доме, где под одной крышей были жилые комнаты, хозяйственные пристройки : кладовые, хлев для скота, сеновал, к которому был пристроен деревянный настил , чтобы лошадь могла завозить сено под крышу для хранения на зиму. Рядом с домами огород , амбар, для хранения зерна, ягод в бочках и грибов, банька по-чёрному. Я была маленькой, ходила в неё мыться с мамой и бабушкой. Едкий дым , когда топилась баня, доводил до слёз. Во время посещения бани сажа цеплялась за руки, ноги,| а если темно, тогда пользовались лучиной или свечкой. В хозяйстве у карел имелась корова, телёночек; овцы, свиньи, куры. Трудолюбивые были, все умели.. В доме добротно построенные дедушкой Фомой скамейки, табуреты, стол, кровать, диван, шкаф, кухонная утварь. Изготавливал - плуги, соху, для вспашки земли, черенки для лопат, вил, топоров, а также умел плести корзины из лучины и мётла из веток деревьев, как для себя , так и для соседей, но и в помощь колхозу. В нашей деревне Рубчойла был колхоз « Победа». И председателем был мой дедушка - Фома Матвеевич. Но, когда, началась война, он ушёл защищать Родину, а печать и документы , где записаны и трудодни отдал Никитиной Марии Фёдоровне - счетоводу колхоза. До окончания войны она сохранила документы. У дедушки и бабушки, родились пятеро детей. Моя мама - Оля была самой младшей в семье (1935 года). Бабушку все звали «Шурачой», умела ткать половики, одной спицей вязать носки и рукавицы, пекла калитки вкусные, готовила еду, управлялась со скотиной, огородом. Очень любила ходить в лес по грибы, ягоды. В печи сушили мелкую рыбку - «сущик», а потом варили вкусные рыбные супчики, пекли рыбники. Мы маленькие, внуки, часто грелись на этой печи, спали после морозов. А ещё, с теплотой вспоминая, лёжа на печи, в такое время, как, приходили родственники сидели за одним столом, чаёвничали, пели песни,плясали. Было дружно и по-домашнему, с теплотой, душевно. Во время войны Дедушка Фома защищал город Ленинград на Пулковских высотах, все эти блокадные дни. Дедушке тогда было 46 лет. Зима 1941-42 г.^ выдалась очень морозная и снежная. Начался голод - 500 грамм хлеба, а потом и того меньше= это норма продовольственная была в день для солдат. На Пулковском рубеже были ожесточённые бои. Тогда был издан приказ: «Ни шагу назад. Не сдавать ни одного вершка земли на ближайших подступах к Ленинграду!» Самолёты всё время сбрасывали авиабомбы, шёл непрерывный обстрел артиллерии в течении дня и ночи». «Путь фашистам почти открыт, в этом нет сомнения, но вдруг происходит невероятное.^ Бронированная громада отборных частей вермахта задержана ополченцами и моряками на реке Воронке, под Урицком и Пулковом у стен Ижорского завода.» 27 января 1944 г.^ - снята блокада Ленинграда. Я горжусь своим дедом, который был там и вместе с воинами, солдатами не пропустил врага в город. Слава героям, слава воинам!!! Когда дедушка ушёл на фронт, бабушке пришлось эвакуироваться с детьми в Архангельскую область. С собой можно было взять только самое необходимое. Собирались быстро, в спешке. Взяли немного хлеба, одежды. Бабушка ещё взяла швейную машинку, зная, она пригодиться для шитья одежды в будущем (но её украли в последствии у бабушки). Очень она потом плакала и переживала. До города Петрозаводска добирались на лошадиных подводах, а далее на баржах. С воздуха бомбили вражеские самолеты. Они видели, как падали авиабомбы рядом с баржей, а одна попала прямо в цель.^ Было страшно, вой снарядов, гул самолетов - крики, плач. Чудом осталась жива моя мама Оля. Они плыли на барже и вот рядом с ними упал снаряд. Люди начали падать от взрывной волны в воздух, в воду, некоторые тонули, были и убитые. Большой чемодан подлетел, бельё вылетело, он широко открылся и мама влетела прямо в него. А так, как мама была и по возрасту (1935 г.р.) и по росту, её это спасло. В Архангельскую область они добрались, кое-как устроились.^ Жизнь была нелёгкая. Пока бабушка Саша работала, дети находились дома| - брату Мише было 8 лет, моей маме 6 лет. Первое время пекли лепёшки из крапивы, опилок, варили картофельные очистки. Мама вспоминая, рассказывая о войне плакала, по щекам текли слёзы.^ Нелегко, тяжело было на чужом месте. Голод, тоска по родному краю, да ещё обидно, называли местные по своему «ковырянные», т.е.^ эвакуированные. Мою маму подружка, которая тоже была эвакуирована с нашей деревни, Тася, позвала с собой пойти по домам.^ Вот они в простеньких платьицах с фартучками пошли.^ Заходя в дома просили пустить их помыть посуду, полы, присмотреть за маленькими детьми, хотя они сами были ещё маленькие. Одни прогоняли, дразнили, обзывали, но были и такие, что говорили: «Спойте лучше песенку». И мы пели, а у слушающих текли слёзы из глаз. Они нам в фартучки клали, то печенье, яблоки и хлебушек, вареные яйца. Мы радостные шли домой. Но, придя домой и разделив всё со своими братьями и сестрами, было очень мало. На следующий день, мы снова шли петь песни. Я всегда спрашивала у мамы, почему у тебя такой звонкий голос? Она пела красиво и на русском, и на карельском языке. Участвовала в выступлениях группы «КГБ» ( группа корзинских бабушек). Она мне отвечала, что в эвакуации голос развился и распелся. Когда в 1944 году освободили Карелию какая была радость, что можно вернуться в свою деревню.^ Были слёзы, но от радости. Дедушка Фома после окончания войны вернулся домой. Награжден медалями, а также медалью за «Блокадный Ленинград». Умер в 1977 году. Его старшая дочь, моя тётя Анна 1920 года рождения -тоже участница ВОВ была санитаркой, окончила войну рядовой. Там и познакомилась со своим будущем мужем, Филатовым Михаилом Леонидовичем. Он был артиллеристом, имел звание лейтенант. В феврале 1945 года, оказавшись в одной части, образовали семью и воспитали четверых детей. Помним подвиг твой, Ленинград! Слава героям!
October 30, 2025 in 13:34 Александра Родионова
- changed the text of the translation
Мой дедушка - Ермолаев Фома Матвеевич жил в д.^ Рубчойла. Жена - Жукова Александра Григорьевна, родом из деревни Нижняя Салма. Жили они в родительском деревянном двухэтажном доме, где под одной крышей были жилые комнаты, хозяйственные пристройки : кладовые, хлев для скота, сеновал, к которому был пристроен деревянный настил , чтобы лошадь могла завозить сено под крышу для хранения на зиму. Рядом с домами огород , амбар, для хранения зерна, ягод в бочках и грибов, банька по-чёрному. Я была маленькой, ходила в неё мыться с мамой и бабушкой. Едкий дым , когда топилась баня, доводил до слёз. Во время посещения бани сажа цеплялась за руки, ноги,| а если темно, тогда пользовались лучиной или свечкой. В хозяйстве у карел имелась корова, телёночек; овцы, свиньи, куры. Трудолюбивые были, все умели.. В доме добротно построенные дедушкой Фомой скамейки, табуреты, стол, кровать, диван, шкаф, кухонная утварь. Изготавливал - плуги, соху, для вспашки земли, черенки для лопат, вил, топоров, а также умел плести корзины из лучины и мётла из веток деревьев, как для себя , так и для соседей, но и в помощь колхозу. В нашей деревне Рубчойла был колхоз « Победа». И председателем был мой дедушка - Фома Матвеевич. Но, когда, началась война, он ушёл защищать Родину, а печать и документы , где записаны и трудодни отдал Никитиной Марии Фёдоровне - счетоводу колхоза. До окончания войны она сохранила документы. У дедушки и бабушки, родились пятеро детей. Моя мама - Оля была самой младшей в семье (1935 года). Бабушку все звали «Шурачой», умела ткать половики, одной спицей вязать носки и рукавицы, пекла калитки вкусные, готовила еду, управлялась со скотиной, огородом. Очень любила ходить в лес по грибы, ягоды. В печи сушили мелкую рыбку - «сущик», а потом варили вкусные рыбные супчики, пекли рыбники. Мы маленькие, внуки, часто грелись на этой печи, спали после морозов. А ещё, с теплотой вспоминая, лёжа на печи, в такое время, как, приходили родственники сидели за одним столом, чаёвничали, пели песни,плясали. Было дружно и по-домашнему, с теплотой, душевно. Во время войны Дедушка Фома защищал город Ленинград на Пулковских высотах, все эти блокадные дни. Дедушке тогда было 46 лет. Зима 1941-42 г.^ выдалась очень морозная и снежная. Начался голод - 500 грамм хлеба, а потом и того меньше= это норма продовольственная была в день для солдат. На Пулковском рубеже были ожесточённые бои. Тогда был издан приказ: «Ни шагу назад. Не сдавать ни одного вершка земли на ближайших подступах к Ленинграду!» Самолёты всё время сбрасывали авиабомбы, шёл непрерывный обстрел артиллерии в течении дня и ночи». «Путь фашистам почти открыт, в этом нет сомнения, но вдруг происходит невероятное.^ Бронированная громада отборных частей вермахта задержана ополченцами и моряками на реке Воронке, под Урицком и Пулковом у стен Ижорского завода.» 27 января 1944 г.^ - снята блокада Ленинграда. Я горжусь своим дедом, который был там и вместе с воинами, солдатами не пропустил врага в город. Слава героям, слава воинам!!! Когда дедушка ушёл на фронт, бабушке пришлось эвакуироваться с детьми в Архангельскую область. С собой можно было взять только самое необходимое. Собирались быстро, в спешке. Взяли немного хлеба, одежды. Бабушка ещё взяла швейную машинку, зная, она пригодиться для шитья одежды в будущем (но её украли в последствии у бабушки). Очень она потом плакала и переживала. До города Петрозаводска добирались на лошадиных подводах, а далее на баржах. С воздуха бомбили вражеские самолеты. Они видели, как падали авиабомбы рядом с баржей, а одна попала прямо в цель.^ Было страшно, вой снарядов, гул самолетов - крики, плач. Чудом осталась жива моя мама Оля. Они плыли на барже и вот рядом с ними упал снаряд. Люди начали падать от взрывной волны в воздух, в воду, некоторые тонули, были и убитые. Большой чемодан подлетел, бельё вылетело, он широко открылся и мама влетела прямо в него. А так, как мама была и по возрасту (1935 г.р.) и по росту, её это спасло. В Архангельскую область они добрались, кое-как устроились.^ Жизнь была нелёгкая. Пока бабушка Саша работала, дети находились дома| - брату Мише было 8 лет, моей маме 6 лет. Первое время пекли лепёшки из крапивы, опилок, варили картофельные очистки. Мама вспоминая, рассказывая о войне плакала, по щекам текли слёзы.^ Нелегко, тяжело было на чужом месте. Голод, тоска по родному краю, да ещё обидно, называли местные по своему «ковырянные», т.е.^ эвакуированные. Мою маму подружка, которая тоже была эвакуирована с нашей деревни, Тася, позвала с собой пойти по домам.^ Вот они в простеньких платьицах с фартучками пошли.^ Заходя в дома просили пустить их помыть посуду, полы, присмотреть за маленькими детьми, хотя они сами были ещё маленькие. Одни прогоняли, дразнили, обзывали, но были и такие, что говорили: «Спойте лучше песенку». И мы пели, а у слушающих текли слёзы из глаз. Они нам в фартучки клали, то печенье, яблоки и хлебушек, вареные яйца. Мы радостные шли домой. Но, придя домой и разделив всё со своими братьями и сестрами, было очень мало. На следующий день, мы снова шли петь песни. Я всегда спрашивала у мамы, почему у тебя такой звонкий голос? Она пела красиво и на русском, и на карельском языке. Участвовала в выступлениях группы «КГБ» ( группа корзинских бабушек). Она мне отвечала, что в эвакуации голос развился и распелся. Когда в 1944 году освободили Карелию какая была радость, что можно вернуться в свою деревню. Были слёзы, но от радости. Дедушка Фома после окончания войны вернулся домой. Награжден медалями, а также медалью за «Блокадный Ленинград». Умер в 1977 году. Его старшая дочь, моя тётя Анна 1920 года рождения -тоже участница ВОВ была санитаркой, окончила войну рядовой. Там и познакомилась со своим будущем мужем, Филатовым Михаилом Леонидовичем. Он был артиллеристом, имел звание лейтенант. В феврале 1945 года, оказавшись в одной части, образовали семью и воспитали четверых детей. Помним подвиг твой, Ленинград! Слава героям!
October 30, 2025 in 13:33 Александра Родионова
- changed the text of the translation
Мой дедушка - Ермолаев Фома Матвеевич жил в д.^ Рубчойла. Жена - Жукова Александра Григорьевна, родом из деревни Нижняя Салма. Жили они в родительском деревянном двухэтажном доме, где под одной крышей были жилые комнаты, хозяйственные пристройки : кладовые, хлев для скота, сеновал, к которому был пристроен деревянный настил , чтобы лошадь могла завозить сено под крышу для хранения на зиму. Рядом с домами огород , амбар, для хранения зерна, ягод в бочках и грибов, банька по-чёрному. Я была маленькой, ходила в неё мыться с мамой и бабушкой. Едкий дым , когда топилась баня, доводил до слёз. Во время посещения бани сажа цеплялась за руки, ноги,| а если темно, тогда пользовались лучиной или свечкой. В хозяйстве у карел имелась корова, телёночек; овцы, свиньи, куры. Трудолюбивые были, все умели.. В доме добротно построенные дедушкой Фомой скамейки, табуреты, стол, кровать, диван, шкаф, кухонная утварь. Изготавливал - плуги, соху, для вспашки земли, черенки для лопат, вил, топоров, а также умел плести корзины из лучины и мётла из веток деревьев, как для себя , так и для соседей, но и в помощь колхозу. В нашей деревне Рубчойла был колхоз « Победа». И председателем был мой дедушка - Фома Матвеевич. Но, когда, началась война, он ушёл защищать Родину, а печать и документы , где записаны и трудодни отдал Никитиной Марии Фёдоровне - счетоводу колхоза. До окончания войны она сохранила документы. У дедушки и бабушки, родились пятеро детей. Моя мама - Оля была самой младшей в семье (1935 года). Бабушку все звали «Шурачой», умела ткать половики, одной спицей вязать носки и рукавицы, пекла калитки вкусные, готовила еду, управлялась со скотиной, огородом. Очень любила ходить в лес по грибы, ягоды. В печи сушили мелкую рыбку - «сущик», а потом варили вкусные рыбные супчики, пекли рыбники. Мы маленькие, внуки, часто грелись на этой печи, спали после морозов. А ещё, с теплотой вспоминая, лёжа на печи, в такое время, как, приходили родственники сидели за одним столом, чаёвничали, пели песни,плясали. Было дружно и по-домашнему, с теплотой, душевно. Во время войны Дедушка Фома защищал город Ленинград на Пулковских высотах, все эти блокадные дни. Дедушке тогда было 46 лет. Зима 1941-42 г.^ выдалась очень морозная и снежная. Начался голод - 500 грамм хлеба, а потом и того меньше= это норма продовольственная была в день для солдат. На Пулковском рубеже были ожесточённые бои. Тогда был издан приказ: «Ни шагу назад. Не сдавать ни одного вершка земли на ближайших подступах к Ленинграду!» Самолёты всё время сбрасывали авиабомбы, шёл непрерывный обстрел артиллерии в течении дня и ночи». «Путь фашистам почти открыт, в этом нет сомнения, но вдруг происходит невероятное.^ Бронированная громада отборных частей вермахта задержана ополченцами и моряками на реке Воронке, под Урицком и Пулковом у стен Ижорского завода.» 27 января 1944 г.^ - снята блокада Ленинграда. Я горжусь своим дедом, который был там и вместе с воинами, солдатами не пропустил врага в город. Слава героям, слава воинам!!! Когда дедушка ушёл на фронт, бабушке пришлось эвакуироваться с детьми в Архангельскую область. С собой можно было взять только самое необходимое. Собирались быстро, в спешке. Взяли немного хлеба, одежды. Бабушка ещё взяла швейную машинку, зная, она пригодиться для шитья одежды в будущем (но её украли в последствии у бабушки). Очень она потом плакала и переживала. До города Петрозаводска добирались на лошадиных подводах, а далее на баржах. С воздуха бомбили вражеские самолеты. Они видели, как падали авиабомбы рядом с баржей, а одна попала прямо в цель.^ Было страшно, вой снарядов, гул самолетов - крики, плач. Чудом осталась жива моя мама Оля. Они плыли на барже и вот рядом с ними упал снаряд. Люди начали падать от взрывной волны в воздух, в воду, некоторые тонули, были и убитые. Большой чемодан подлетел, бельё вылетело, он широко открылся и мама влетела прямо в него. А так, как мама была и по возрасту (1935 г.р.) и по росту, её это спасло. В Архангельскую область они добрались, кое-как устроились.^ Жизнь была нелёгкая. Пока бабушка Саша работала, дети находились дома| - брату Мише было 8 лет, моей маме 6 лет. Первое время пекли лепёшки из крапивы, опилок, варили картофельные очистки. Мама вспоминая, рассказывая о войне плакала, по щекам текли слёзы.^ Нелегко, тяжело было на чужом месте. Голод, тоска по родному краю, да ещё обидно, называли местные по своему «ковырянные», т.е.^ эвакуированные. Мою маму подружка, которая тоже была эвакуирована с нашей деревни, Тася, позвала с собой пойти по домам. Вот они в простеньких платьицах с фартучками пошли. Заходя в дома просили пустить их помыть посуду, полы, присмотреть за маленькими детьми, хотя они сами были ещё маленькие. Одни прогоняли, дразнили, обзывали, но были и такие, что говорили: «Спойте лучше песенку». И мы пели, а у слушающих текли слёзы из глаз. Они нам в фартучки клали, то печенье, яблоки и хлебушек, вареные яйца. Мы радостные шли домой. Но, придя домой и разделив всё со своими братьями и сестрами, было очень мало. На следующий день, мы снова шли петь песни. Я всегда спрашивала у мамы, почему у тебя такой звонкий голос? Она пела красиво и на русском, и на карельском языке. Участвовала в выступлениях группы «КГБ» ( группа корзинских бабушек). Она мне отвечала, что в эвакуации голос развился и распелся. Когда в 1944 году освободили Карелию какая была радость, что можно вернуться в свою деревню. Были слёзы, но от радости. Дедушка Фома после окончания войны вернулся домой. Награжден медалями, а также медалью за «Блокадный Ленинград». Умер в 1977 году. Его старшая дочь, моя тётя Анна 1920 года рождения -тоже участница ВОВ была санитаркой, окончила войну рядовой. Там и познакомилась со своим будущем мужем, Филатовым Михаилом Леонидовичем. Он был артиллеристом, имел звание лейтенант. В феврале 1945 года, оказавшись в одной части, образовали семью и воспитали четверых детей. Помним подвиг твой, Ленинград! Слава героям!
October 30, 2025 in 13:32 Александра Родионова
- changed the text of the translation
Мой дедушка - Ермолаев Фома Матвеевич жил в д.^ Рубчойла. Жена - Жукова Александра Григорьевна, родом из деревни Нижняя Салма. Жили они в родительском деревянном двухэтажном доме, где под одной крышей были жилые комнаты, хозяйственные пристройки : кладовые, хлев для скота, сеновал, к которому был пристроен деревянный настил , чтобы лошадь могла завозить сено под крышу для хранения на зиму. Рядом с домами огород , амбар, для хранения зерна, ягод в бочках и грибов, банька по-чёрному. Я была маленькой, ходила в неё мыться с мамой и бабушкой. Едкий дым , когда топилась баня, доводил до слёз. Во время посещения бани сажа цеплялась за руки, ноги,| а если темно, тогда пользовались лучиной или свечкой. В хозяйстве у карел имелась корова, телёночек; овцы, свиньи, куры. Трудолюбивые были, все умели.. В доме добротно построенные дедушкой Фомой скамейки, табуреты, стол, кровать, диван, шкаф, кухонная утварь. Изготавливал - плуги, соху, для вспашки земли, черенки для лопат, вил, топоров, а также умел плести корзины из лучины и мётла из веток деревьев, как для себя , так и для соседей, но и в помощь колхозу. В нашей деревне Рубчойла был колхоз « Победа». И председателем был мой дедушка - Фома Матвеевич. Но, когда, началась война, он ушёл защищать Родину, а печать и документы , где записаны и трудодни отдал Никитиной Марии Фёдоровне - счетоводу колхоза. До окончания войны она сохранила документы. У дедушки и бабушки, родились пятеро детей. Моя мама - Оля была самой младшей в семье (1935 года). Бабушку все звали «Шурачой», умела ткать половики, одной спицей вязать носки и рукавицы, пекла калитки вкусные, готовила еду, управлялась со скотиной, огородом. Очень любила ходить в лес по грибы, ягоды. В печи сушили мелкую рыбку - «сущик», а потом варили вкусные рыбные супчики, пекли рыбники. Мы маленькие, внуки, часто грелись на этой печи, спали после морозов. А ещё, с теплотой вспоминая, лёжа на печи, в такое время, как, приходили родственники сидели за одним столом, чаёвничали, пели песни,плясали. Было дружно и по-домашнему, с теплотой, душевно. Во время войны Дедушка Фома защищал город Ленинград на Пулковских высотах, все эти блокадные дни. Дедушке тогда было 46 лет. Зима 1941-42 г.^ выдалась очень морозная и снежная. Начался голод - 500 грамм хлеба, а потом и того меньше= это норма продовольственная была в день для солдат. На Пулковском рубеже были ожесточённые бои. Тогда был издан приказ: «Ни шагу назад. Не сдавать ни одного вершка земли на ближайших подступах к Ленинграду!» Самолёты всё время сбрасывали авиабомбы, шёл непрерывный обстрел артиллерии в течении дня и ночи». «Путь фашистам почти открыт, в этом нет сомнения, но вдруг происходит невероятное.^ Бронированная громада отборных частей вермахта задержана ополченцами и моряками на реке Воронке, под Урицком и Пулковом у стен Ижорского завода.» 27 января 1944 г.^ - снята блокада Ленинграда. Я горжусь своим дедом, который был там и вместе с воинами, солдатами не пропустил врага в город. Слава героям, слава воинам!!! Когда дедушка ушёл на фронт, бабушке пришлось эвакуироваться с детьми в Архангельскую область. С собой можно было взять только самое необходимое. Собирались быстро, в спешке. Взяли немного хлеба, одежды. Бабушка ещё взяла швейную машинку, зная, она пригодиться для шитья одежды в будущем (но её украли в последствии у бабушки). Очень она потом плакала и переживала. До города Петрозаводска добирались на лошадиных подводах, а далее на баржах. С воздуха бомбили вражеские самолеты. Они видели, как падали авиабомбы рядом с баржей, а одна попала прямо в цель.^ Было страшно, вой снарядов, гул самолетов - крики, плач. Чудом осталась жива моя мама Оля. Они плыли на барже и вот рядом с ними упал снаряд. Люди начали падать от взрывной волны в воздух, в воду, некоторые тонули, были и убитые. Большой чемодан подлетел, бельё вылетело, он широко открылся и мама влетела прямо в него. А так, как мама была и по возрасту (1935 г.р.) и по росту, её это спасло. В Архангельскую область они добрались, кое-как устроились.^ Жизнь была нелёгкая. Пока бабушка Саша работала, дети находились дома| - брату Мише было 8 лет, моей маме 6 лет. Первое время пекли лепёшки из крапивы, опилок, варили картофельные очистки. Мама вспоминая, рассказывая о войне плакала, по щекам текли слёзы. Нелегко, тяжело было на чужом месте. Голод, тоска по родному краю, да ещё обидно, называли местные по своему «ковырянные», т.е. эвакуированные. Мою маму подружка, которая тоже была эвакуирована с нашей деревни, Тася, позвала с собой пойти по домам. Вот они в простеньких платьицах с фартучками пошли. Заходя в дома просили пустить их помыть посуду, полы, присмотреть за маленькими детьми, хотя они сами были ещё маленькие. Одни прогоняли, дразнили, обзывали, но были и такие, что говорили: «Спойте лучше песенку». И мы пели, а у слушающих текли слёзы из глаз. Они нам в фартучки клали, то печенье, яблоки и хлебушек, вареные яйца. Мы радостные шли домой. Но, придя домой и разделив всё со своими братьями и сестрами, было очень мало. На следующий день, мы снова шли петь песни. Я всегда спрашивала у мамы, почему у тебя такой звонкий голос? Она пела красиво и на русском, и на карельском языке. Участвовала в выступлениях группы «КГБ» ( группа корзинских бабушек). Она мне отвечала, что в эвакуации голос развился и распелся. Когда в 1944 году освободили Карелию какая была радость, что можно вернуться в свою деревню. Были слёзы, но от радости. Дедушка Фома после окончания войны вернулся домой. Награжден медалями, а также медалью за «Блокадный Ленинград». Умер в 1977 году. Его старшая дочь, моя тётя Анна 1920 года рождения -тоже участница ВОВ была санитаркой, окончила войну рядовой. Там и познакомилась со своим будущем мужем, Филатовым Михаилом Леонидовичем. Он был артиллеристом, имел звание лейтенант. В феврале 1945 года, оказавшись в одной части, образовали семью и воспитали четверых детей. Помним подвиг твой, Ленинград! Слава героям!
October 30, 2025 in 13:31 Александра Родионова
- changed the text of the translation
Мой дедушка - Ермолаев Фома Матвеевич жил в д.^ Рубчойла. Жена - Жукова Александра Григорьевна, родом из деревни Нижняя Салма. Жили они в родительском деревянном двухэтажном доме, где под одной крышей были жилые комнаты, хозяйственные пристройки : кладовые, хлев для скота, сеновал, к которому был пристроен деревянный настил , чтобы лошадь могла завозить сено под крышу для хранения на зиму. Рядом с домами огород , амбар, для хранения зерна, ягод в бочках и грибов, банька по-чёрному. Я была маленькой, ходила в неё мыться с мамой и бабушкой. Едкий дым , когда топилась баня, доводил до слёз. Во время посещения бани сажа цеплялась за руки, ноги,| а если темно, тогда пользовались лучиной или свечкой. В хозяйстве у карел имелась корова, телёночек; овцы, свиньи, куры. Трудолюбивые были, все умели.. В доме добротно построенные дедушкой Фомой скамейки, табуреты, стол, кровать, диван, шкаф, кухонная утварь. Изготавливал - плуги, соху, для вспашки земли, черенки для лопат, вил, топоров, а также умел плести корзины из лучины и мётла из веток деревьев, как для себя , так и для соседей, но и в помощь колхозу. В нашей деревне Рубчойла был колхоз « Победа». И председателем был мой дедушка - Фома Матвеевич. Но, когда, началась война, он ушёл защищать Родину, а печать и документы , где записаны и трудодни отдал Никитиной Марии Фёдоровне - счетоводу колхоза. До окончания войны она сохранила документы. У дедушки и бабушки, родились пятеро детей. Моя мама - Оля была самой младшей в семье (1935 года). Бабушку все звали «Шурачой», умела ткать половики, одной спицей вязать носки и рукавицы, пекла калитки вкусные, готовила еду, управлялась со скотиной, огородом. Очень любила ходить в лес по грибы, ягоды. В печи сушили мелкую рыбку - «сущик», а потом варили вкусные рыбные супчики, пекли рыбники. Мы маленькие, внуки, часто грелись на этой печи, спали после морозов. А ещё, с теплотой вспоминая, лёжа на печи, в такое время, как, приходили родственники сидели за одним столом, чаёвничали, пели песни,плясали. Было дружно и по-домашнему, с теплотой, душевно. Во время войны Дедушка Фома защищал город Ленинград на Пулковских высотах, все эти блокадные дни. Дедушке тогда было 46 лет. Зима 1941-42 г.^ выдалась очень морозная и снежная. Начался голод - 500 грамм хлеба, а потом и того меньше= это норма продовольственная была в день для солдат. На Пулковском рубеже были ожесточённые бои. Тогда был издан приказ: «Ни шагу назад. Не сдавать ни одного вершка земли на ближайших подступах к Ленинграду!» Самолёты всё время сбрасывали авиабомбы, шёл непрерывный обстрел артиллерии в течении дня и ночи». «Путь фашистам почти открыт, в этом нет сомнения, но вдруг происходит невероятное.^ Бронированная громада отборных частей вермахта задержана ополченцами и моряками на реке Воронке, под Урицком и Пулковом у стен Ижорского завода.» 27 января 1944 г.^ - снята блокада Ленинграда. Я горжусь своим дедом, который был там и вместе с воинами, солдатами не пропустил врага в город. Слава героям, слава воинам!!! Когда дедушка ушёл на фронт, бабушке пришлось эвакуироваться с детьми в Архангельскую область. С собой можно было взять только самое необходимое. Собирались быстро, в спешке. Взяли немного хлеба, одежды. Бабушка ещё взяла швейную машинку, зная, она пригодиться для шитья одежды в будущем (но её украли в последствии у бабушки). Очень она потом плакала и переживала. До города Петрозаводска добирались на лошадиных подводах, а далее на баржах. С воздуха бомбили вражеские самолеты. Они видели, как падали авиабомбы рядом с баржей, а одна попала прямо в цель.^ Было страшно, вой снарядов, гул самолетов - крики, плач. Чудом осталась жива моя мама Оля. Они плыли на барже и вот рядом с ними упал снаряд. Люди начали падать от взрывной волны в воздух, в воду, некоторые тонули, были и убитые. Большой чемодан подлетел, бельё вылетело, он широко открылся и мама влетела прямо в него. А так, как мама была и по возрасту (1935 г.р.) и по росту, её это спасло. В Архангельскую область они добрались, кое-как устроились.^ Жизнь была нелёгкая. Продукты начали заканчиваться, детям очень хотелось кушать. Пока бабушка Саша работала, дети находились дома - брату Мише было 8 лет, моей маме 6 лет. Первое время пекли лепёшки из крапивы, опилок, варили картофельные очистки. Мама вспоминая, рассказывая о войне плакала, по щекам текли слёзы. Нелегко, тяжело было на чужом месте. Голод, тоска по родному краю, да ещё обидно, называли местные по своему «ковырянные», т.е. эвакуированные. Мою маму подружка, которая тоже была эвакуирована с нашей деревни, Тася, позвала с собой пойти по домам. Вот они в простеньких платьицах с фартучками пошли. Заходя в дома просили пустить их помыть посуду, полы, присмотреть за маленькими детьми, хотя они сами были ещё маленькие. Одни прогоняли, дразнили, обзывали, но были и такие, что говорили: «Спойте лучше песенку». И мы пели, а у слушающих текли слёзы из глаз. Они нам в фартучки клали, то печенье, яблоки и хлебушек, вареные яйца. Мы радостные шли домой. Но, придя домой и разделив всё со своими братьями и сестрами, было очень мало. На следующий день, мы снова шли петь песни. Я всегда спрашивала у мамы, почему у тебя такой звонкий голос? Она пела красиво и на русском, и на карельском языке. Участвовала в выступлениях группы «КГБ» ( группа корзинских бабушек). Она мне отвечала, что в эвакуации голос развился и распелся. Когда в 1944 году освободили Карелию какая была радость, что можно вернуться в свою деревню. Были слёзы, но от радости. Дедушка Фома после окончания войны вернулся домой. Награжден медалями, а также медалью за «Блокадный Ленинград». Умер в 1977 году. Его старшая дочь, моя тётя Анна 1920 года рождения -тоже участница ВОВ была санитаркой, окончила войну рядовой. Там и познакомилась со своим будущем мужем, Филатовым Михаилом Леонидовичем. Он был артиллеристом, имел звание лейтенант. В феврале 1945 года, оказавшись в одной части, образовали семью и воспитали четверых детей. Помним подвиг твой, Ленинград! Слава героям!
October 30, 2025 in 13:29 Александра Родионова
- changed the text of the translation
Мой дедушка - Ермолаев Фома Матвеевич жил в д.^ Рубчойла. Жена - Жукова Александра Григорьевна, родом из деревни Нижняя Салма. Жили они в родительском деревянном двухэтажном доме, где под одной крышей были жилые комнаты, хозяйственные пристройки : кладовые, хлев для скота, сеновал, к которому был пристроен деревянный настил , чтобы лошадь могла завозить сено под крышу для хранения на зиму. Рядом с домами огород , амбар, для хранения зерна, ягод в бочках и грибов, банька по-чёрному. Я была маленькой, ходила в неё мыться с мамой и бабушкой. Едкий дым , когда топилась баня, доводил до слёз. Во время посещения бани сажа цеплялась за руки, ноги,| а если темно, тогда пользовались лучиной или свечкой. В хозяйстве у карел имелась корова, телёночек; овцы, свиньи, куры. Трудолюбивые были, все умели.. В доме добротно построенные дедушкой Фомой скамейки, табуреты, стол, кровать, диван, шкаф, кухонная утварь. Изготавливал - плуги, соху, для вспашки земли, черенки для лопат, вил, топоров, а также умел плести корзины из лучины и мётла из веток деревьев, как для себя , так и для соседей, но и в помощь колхозу. В нашей деревне Рубчойла был колхоз « Победа». И председателем был мой дедушка - Фома Матвеевич. Но, когда, началась война, он ушёл защищать Родину, а печать и документы , где записаны и трудодни отдал Никитиной Марии Фёдоровне - счетоводу колхоза. До окончания войны она сохранила документы. У дедушки и бабушки, родились пятеро детей. Моя мама - Оля была самой младшей в семье (1935 года). Бабушку все звали «Шурачой», умела ткать половики, одной спицей вязать носки и рукавицы, пекла калитки вкусные, готовила еду, управлялась со скотиной, огородом. Очень любила ходить в лес по грибы, ягоды. В печи сушили мелкую рыбку - «сущик», а потом варили вкусные рыбные супчики, пекли рыбники. Мы маленькие, внуки, часто грелись на этой печи, спали после морозов. А ещё, с теплотой вспоминая, лёжа на печи, в такое время, как, приходили родственники сидели за одним столом, чаёвничали, пели песни,плясали. Было дружно и по-домашнему, с теплотой, душевно. Во время войны Дедушка Фома защищал город Ленинград на Пулковских высотах, все эти блокадные дни. Дедушке тогда было 46 лет. Зима 1941-42 г.^ выдалась очень морозная и снежная. Начался голод - 500 грамм хлеба, а потом и того меньше= это норма продовольственная была в день для солдат. На Пулковском рубеже были ожесточённые бои. Тогда был издан приказ: «Ни шагу назад. Не сдавать ни одного вершка земли на ближайших подступах к Ленинграду!» Самолёты всё время сбрасывали авиабомбы, шёл непрерывный обстрел артиллерии в течении дня и ночи». «Путь фашистам почти открыт, в этом нет сомнения, но вдруг происходит невероятное.^ Бронированная громада отборных частей вермахта задержана ополченцами и моряками на реке Воронке, под Урицком и Пулковом у стен Ижорского завода.» 27 января 1944 г.^ - снята блокада Ленинграда. Я горжусь своим дедом, который был там и вместе с воинами, солдатами не пропустил врага в город. Слава героям, слава воинам!!! Когда дедушка ушёл на фронт, бабушке пришлось эвакуироваться с детьми в Архангельскую область. С собой можно было взять только самое необходимое. Собирались быстро, в спешке. Взяли немного хлеба, одежды. Бабушка ещё взяла швейную машинку, зная, она пригодиться для шитья одежды в будущем (но её украли в последствии у бабушки). Очень она потом плакала и переживала. До города Петрозаводска добирались на лошадиных подводах, а далее на баржах. С воздуха бомбили вражеские самолеты. Они видели, как падали авиабомбы рядом с баржей, а одна попала прямо в цель.^ Было страшно, вой снарядов, гул самолетов - крики, плач. Чудом осталась жива моя мама Оля. Они плыли на барже и вот рядом с ними упал снаряд. Люди начали падать от взрывной волны в воздух, в воду, некоторые тонули, были и убитые. Большой чемодан подлетел, бельё вылетело, он широко открылся и мама влетела прямо в него. А так, как мама была и по возрасту (1935 г.р.) и по росту, её это спасло. В Архангельскую область они добрались, кое-как устроились. Жизнь была нелёгкая. Продукты начали заканчиваться, детям очень хотелось кушать. Пока бабушка Саша работала, дети находились дома - брату Мише было 8 лет, моей маме 6 лет. Первое время пекли лепёшки из крапивы, опилок, варили картофельные очистки. Мама вспоминая, рассказывая о войне плакала, по щекам текли слёзы. Нелегко, тяжело было на чужом месте. Голод, тоска по родному краю, да ещё обидно, называли местные по своему «ковырянные», т.е. эвакуированные. Мою маму подружка, которая тоже была эвакуирована с нашей деревни, Тася, позвала с собой пойти по домам. Вот они в простеньких платьицах с фартучками пошли. Заходя в дома просили пустить их помыть посуду, полы, присмотреть за маленькими детьми, хотя они сами были ещё маленькие. Одни прогоняли, дразнили, обзывали, но были и такие, что говорили: «Спойте лучше песенку». И мы пели, а у слушающих текли слёзы из глаз. Они нам в фартучки клали, то печенье, яблоки и хлебушек, вареные яйца. Мы радостные шли домой. Но, придя домой и разделив всё со своими братьями и сестрами, было очень мало. На следующий день, мы снова шли петь песни. Я всегда спрашивала у мамы, почему у тебя такой звонкий голос? Она пела красиво и на русском, и на карельском языке. Участвовала в выступлениях группы «КГБ» ( группа корзинских бабушек). Она мне отвечала, что в эвакуации голос развился и распелся. Когда в 1944 году освободили Карелию какая была радость, что можно вернуться в свою деревню. Были слёзы, но от радости. Дедушка Фома после окончания войны вернулся домой. Награжден медалями, а также медалью за «Блокадный Ленинград». Умер в 1977 году. Его старшая дочь, моя тётя Анна 1920 года рождения -тоже участница ВОВ была санитаркой, окончила войну рядовой. Там и познакомилась со своим будущем мужем, Филатовым Михаилом Леонидовичем. Он был артиллеристом, имел звание лейтенант. В феврале 1945 года, оказавшись в одной части, образовали семью и воспитали четверых детей. Помним подвиг твой, Ленинград! Слава героям!
October 30, 2025 in 13:27 Александра Родионова
- changed the text of the translation
Мой дедушка - Ермолаев Фома Матвеевич жил в д.^ Рубчойла. Жена - Жукова Александра Григорьевна, родом из деревни Нижняя Салма. Жили они в родительском деревянном двухэтажном доме, где под одной крышей были жилые комнаты, хозяйственные пристройки : кладовые, хлев для скота, сеновал, к которому был пристроен деревянный настил , чтобы лошадь могла завозить сено под крышу для хранения на зиму. Рядом с домами огород , амбар, для хранения зерна, ягод в бочках и грибов, банька по-чёрному. Я была маленькой, ходила в неё мыться с мамой и бабушкой. Едкий дым , когда топилась баня, доводил до слёз. Во время посещения бани сажа цеплялась за руки, ноги,| а если темно, тогда пользовались лучиной или свечкой. В хозяйстве у карел имелась корова, телёночек; овцы, свиньи, куры. Трудолюбивые были, все умели.. В доме добротно построенные дедушкой Фомой скамейки, табуреты, стол, кровать, диван, шкаф, кухонная утварь. Изготавливал - плуги, соху, для вспашки земли, черенки для лопат, вил, топоров, а также умел плести корзины из лучины и мётла из веток деревьев, как для себя , так и для соседей, но и в помощь колхозу. В нашей деревне Рубчойла был колхоз « Победа». И председателем был мой дедушка - Фома Матвеевич. Но, когда, началась война, он ушёл защищать Родину, а печать и документы , где записаны и трудодни отдал Никитиной Марии Фёдоровне - счетоводу колхоза. До окончания войны она сохранила документы. У дедушки и бабушки, родились пятеро детей. Моя мама - Оля была самой младшей в семье (1935 года). Бабушку все звали «Шурачой», умела ткать половики, одной спицей вязать носки и рукавицы, пекла калитки вкусные, готовила еду, управлялась со скотиной, огородом. Очень любила ходить в лес по грибы, ягоды. В печи сушили мелкую рыбку - «сущик», а потом варили вкусные рыбные супчики, пекли рыбники. Мы маленькие, внуки, часто грелись на этой печи, спали после морозов. А ещё, с теплотой вспоминая, лёжа на печи, в такое время, как, приходили родственники сидели за одним столом, чаёвничали, пели песни,плясали. Было дружно и по-домашнему, с теплотой, душевно. Во время войны Дедушка Фома защищал город Ленинград на Пулковских высотах, все эти блокадные дни. Дедушке тогда было 46 лет. Зима 1941-42 г.^ выдалась очень морозная и снежная. Начался голод - 500 грамм хлеба, а потом и того меньше= это норма продовольственная была в день для солдат. На Пулковском рубеже были ожесточённые бои. Тогда был издан приказ: «Ни шагу назад. Не сдавать ни одного вершка земли на ближайших подступах к Ленинграду!» Самолёты всё время сбрасывали авиабомбы, шёл непрерывный обстрел артиллерии в течении дня и ночи». «Путь фашистам почти открыт, в этом нет сомнения, но вдруг происходит невероятное.^ Бронированная громада отборных частей вермахта задержана ополченцами и моряками на реке Воронке, под Урицком и Пулковом у стен Ижорского завода.» 27 января 1944 г.^ - снята блокада Ленинграда. Я горжусь своим дедом, который был там и вместе с воинами, солдатами не пропустил врага в город. Слава героям, слава воинам!!! Когда дедушка ушёл на фронт, бабушке пришлось эвакуироваться с детьми в Архангельскую область. С собой можно было взять только самое необходимое. Собирались быстро, в спешке.Мама моя рассказывала по воспоминаниям семьи.Взяли немного хлеба, одежды. Бабушка ещё взяла швейную машинку, зная, она пригодиться для шитья одежды в будущем (но её украли в последствии у бабушки). Очень она потом плакала и переживала. До города Петрозаводска добирались на лошадиных подводах, а далее на баржах. С воздуха бомбили вражеские самолеты. Они видели, как падали авиабомбы рядом с баржей, а одна попала прямо в цель. Было страшно, вой снарядов, гул самолетов - крики, плач. Чудом осталась жива моя мама Оля. Они плыли на барже и вот рядом с ними упал снаряд. Люди начали падать от взрывной волны в воздух, в воду, некоторые тонули, были и убитые. Большой чемодан подлетел, бельё вылетело, он широко открылся и мама влетела прямо в него. А так, как мама была и по возрасту (1935 г.р.) и по росту, её это спасло. В Архангельскую область они добрались, кое-как устроились. Жизнь была нелёгкая. Продукты начали заканчиваться, детям очень хотелось кушать. Пока бабушка Саша работала, дети находились дома - брату Мише было 8 лет, моей маме 6 лет. Первое время пекли лепёшки из крапивы, опилок, варили картофельные очистки. Мама вспоминая, рассказывая о войне плакала, по щекам текли слёзы. Нелегко, тяжело было на чужом месте. Голод, тоска по родному краю, да ещё обидно, называли местные по своему «ковырянные», т.е. эвакуированные. Мою маму подружка, которая тоже была эвакуирована с нашей деревни, Тася, позвала с собой пойти по домам. Вот они в простеньких платьицах с фартучками пошли. Заходя в дома просили пустить их помыть посуду, полы, присмотреть за маленькими детьми, хотя они сами были ещё маленькие. Одни прогоняли, дразнили, обзывали, но были и такие, что говорили: «Спойте лучше песенку». И мы пели, а у слушающих текли слёзы из глаз. Они нам в фартучки клали, то печенье, яблоки и хлебушек, вареные яйца. Мы радостные шли домой. Но, придя домой и разделив всё со своими братьями и сестрами, было очень мало. На следующий день, мы снова шли петь песни. Я всегда спрашивала у мамы, почему у тебя такой звонкий голос? Она пела красиво и на русском, и на карельском языке. Участвовала в выступлениях группы «КГБ» ( группа корзинских бабушек). Она мне отвечала, что в эвакуации голос развился и распелся. Когда в 1944 году освободили Карелию какая была радость, что можно вернуться в свою деревню. Были слёзы, но от радости. Дедушка Фома после окончания войны вернулся домой. Награжден медалями, а также медалью за «Блокадный Ленинград». Умер в 1977 году. Его старшая дочь, моя тётя Анна 1920 года рождения -тоже участница ВОВ была санитаркой, окончила войну рядовой. Там и познакомилась со своим будущем мужем, Филатовым Михаилом Леонидовичем. Он был артиллеристом, имел звание лейтенант. В феврале 1945 года, оказавшись в одной части, образовали семью и воспитали четверых детей. Помним подвиг твой, Ленинград! Слава героям!
October 30, 2025 in 13:26 Александра Родионова
- changed the text of the translation
Мой дедушка - Ермолаев Фома Матвеевич жил в д.^ Рубчойла. Жена - Жукова Александра Григорьевна, родом из деревни Нижняя Салма. Жили они в родительском деревянном двухэтажном доме, где под одной крышей были жилые комнаты, хозяйственные пристройки : кладовые, хлев для скота, сеновал, к которому был пристроен деревянный настил , чтобы лошадь могла завозить сено под крышу для хранения на зиму. Рядом с домами огород , амбар, для хранения зерна, ягод в бочках и грибов, банька по-чёрному. Я была маленькой, ходила в неё мыться с мамой и бабушкой. Едкий дым , когда топилась баня, доводил до слёз. Во время посещения бани сажа цеплялась за руки, ноги,| а если темно, тогда пользовались лучиной или свечкой. В хозяйстве у карел имелась корова, телёночек; овцы, свиньи, куры. Трудолюбивые были, все умели.. В доме добротно построенные дедушкой Фомой скамейки, табуреты, стол, кровать, диван, шкаф, кухонная утварь. Изготавливал - плуги, соху, для вспашки земли, черенки для лопат, вил, топоров, а также умел плести корзины из лучины и мётла из веток деревьев, как для себя , так и для соседей, но и в помощь колхозу. В нашей деревне Рубчойла был колхоз « Победа». И председателем был мой дедушка - Фома Матвеевич. Но, когда, началась война, он ушёл защищать Родину, а печать и документы , где записаны и трудодни отдал Никитиной Марии Фёдоровне - счетоводу колхоза. До окончания войны она сохранила документы. У дедушки и бабушки, родились пятеро детей. Моя мама - Оля была самой младшей в семье (1935 года). Бабушку все звали «Шурачой», умела ткать половики, одной спицей вязать носки и рукавицы, пекла калитки вкусные, готовила еду, управлялась со скотиной, огородом. Очень любила ходить в лес по грибы, ягоды. В печи сушили мелкую рыбку - «сущик», а потом варили вкусные рыбные супчики, пекли рыбники. Мы маленькие, внуки, часто грелись на этой печи, спали после морозов. А ещё, с теплотой вспоминая, лёжа на печи, в такое время, как, приходили родственники сидели за одним столом, чаёвничали, пели песни,плясали. Было дружно и по-домашнему, с теплотой, душевно. Во время войны Дедушка Фома защищал город Ленинград на Пулковских высотах, все эти блокадные дни. Дедушке тогда было 46 лет. Зима 1941-42 г.^ выдалась очень морозная и снежная. Начался голод - 500 грамм хлеба, а потом и того меньше= это норма продовольственная была в день для солдат. На Пулковском рубеже были ожесточённые бои. Тогда был издан приказ: «Ни шагу назад. Не сдавать ни одного вершка земли на ближайших подступах к Ленинграду!» Самолёты всё время сбрасывали авиабомбы, шёл непрерывный обстрел артиллерии в течении дня и ночи». «Путь фашистам почти открыт, в этом нет сомнения, но вдруг происходит невероятное.^ Бронированная громада отборных частей вермахта задержана ополченцами и моряками на реке Воронке, под Урицком и Пулковом у стен Ижорского завода.» 27 января 1944 г.^ - снята блокада Ленинграда. Я горжусь своим дедом, который был там и вместе с воинами, солдатами не пропустил врага в город. Слава героям, слава воинам!!! Когда дедушка ушёл на фронт, бабушке пришлось эвакуироваться с детьми в Архангельскую область. С собой можно было взять только самое необходимое. Собирались быстро, в спешке. Мама моя рассказывала по воспоминаниям семьи. Взяли немного хлеба, одежды. Бабушка ещё взяла швейную машинку, зная, она пригодиться для шитья одежды в будущем (но её украли в последствии у бабушки). Очень она потом плакала и переживала. До города Петрозаводска добирались на лошадиных подводах, а далее на баржах. С воздуха бомбили вражеские самолеты. Они видели, как падали авиабомбы рядом с баржей, а одна попала прямо в цель. Было страшно, вой снарядов, гул самолетов - крики, плач. Чудом осталась жива моя мама Оля. Они плыли на барже и вот рядом с ними упал снаряд. Люди начали падать от взрывной волны в воздух, в воду, некоторые тонули, были и убитые. Большой чемодан подлетел, бельё вылетело, он широко открылся и мама влетела прямо в него. А так, как мама была и по возрасту (1935 г.р.) и по росту, её это спасло. В Архангельскую область они добрались, кое-как устроились. Жизнь была нелёгкая. Продукты начали заканчиваться, детям очень хотелось кушать. Пока бабушка Саша работала, дети находились дома - брату Мише было 8 лет, моей маме 6 лет. Первое время пекли лепёшки из крапивы, опилок, варили картофельные очистки. Мама вспоминая, рассказывая о войне плакала, по щекам текли слёзы. Нелегко, тяжело было на чужом месте. Голод, тоска по родному краю, да ещё обидно, называли местные по своему «ковырянные», т.е. эвакуированные. Мою маму подружка, которая тоже была эвакуирована с нашей деревни, Тася, позвала с собой пойти по домам. Вот они в простеньких платьицах с фартучками пошли. Заходя в дома просили пустить их помыть посуду, полы, присмотреть за маленькими детьми, хотя они сами были ещё маленькие. Одни прогоняли, дразнили, обзывали, но были и такие, что говорили: «Спойте лучше песенку». И мы пели, а у слушающих текли слёзы из глаз. Они нам в фартучки клали, то печенье, яблоки и хлебушек, вареные яйца. Мы радостные шли домой. Но, придя домой и разделив всё со своими братьями и сестрами, было очень мало. На следующий день, мы снова шли петь песни. Я всегда спрашивала у мамы, почему у тебя такой звонкий голос? Она пела красиво и на русском, и на карельском языке. Участвовала в выступлениях группы «КГБ» ( группа корзинских бабушек). Она мне отвечала, что в эвакуации голос развился и распелся. Когда в 1944 году освободили Карелию какая была радость, что можно вернуться в свою деревню. Были слёзы, но от радости. Дедушка Фома после окончания войны вернулся домой. Награжден медалями, а также медалью за «Блокадный Ленинград». Умер в 1977 году. Его старшая дочь, моя тётя Анна 1920 года рождения -тоже участница ВОВ была санитаркой, окончила войну рядовой. Там и познакомилась со своим будущем мужем, Филатовым Михаилом Леонидовичем. Он был артиллеристом, имел звание лейтенант. В феврале 1945 года, оказавшись в одной части, образовали семью и воспитали четверых детей. Помним подвиг твой, Ленинград! Слава героям!
October 30, 2025 in 13:25 Александра Родионова
- changed the text of the translation
Мой дедушка - Ермолаев Фома Матвеевич жил в д.^ Рубчойла. Жена - Жукова Александра Григорьевна, родом из деревни Нижняя Салма. Жили они в родительском деревянном двухэтажном доме, где под одной крышей были жилые комнаты, хозяйственные пристройки : кладовые, хлев для скота, сеновал, к которому был пристроен деревянный настил , чтобы лошадь могла завозить сено под крышу для хранения на зиму. Рядом с домами огород , амбар, для хранения зерна, ягод в бочках и грибов, банька по-чёрному. Я была маленькой, ходила в неё мыться с мамой и бабушкой. Едкий дым , когда топилась баня, доводил до слёз. Во время посещения бани сажа цеплялась за руки, ноги,| а если темно, тогда пользовались лучиной или свечкой. В хозяйстве у карел имелась корова, телёночек; овцы, свиньи, куры. Трудолюбивые были, все умели.. В доме добротно построенные дедушкой Фомой скамейки, табуреты, стол, кровать, диван, шкаф, кухонная утварь. Изготавливал - плуги, соху, для вспашки земли, черенки для лопат, вил, топоров, а также умел плести корзины из лучины и мётла из веток деревьев, как для себя , так и для соседей, но и в помощь колхозу. В нашей деревне Рубчойла был колхоз « Победа». И председателем был мой дедушка - Фома Матвеевич. Но, когда, началась война, он ушёл защищать Родину, а печать и документы , где записаны и трудодни отдал Никитиной Марии Фёдоровне - счетоводу колхоза. До окончания войны она сохранила документы. У дедушки и бабушки, родились пятеро детей. Моя мама - Оля была самой младшей в семье (1935 года). Бабушку все звали «Шурачой», умела ткать половики, одной спицей вязать носки и рукавицы, пекла калитки вкусные, готовила еду, управлялась со скотиной, огородом. Очень любила ходить в лес по грибы, ягоды. В печи сушили мелкую рыбку - «сущик», а потом варили вкусные рыбные супчики, пекли рыбники. Мы маленькие, внуки, часто грелись на этой печи, спали после морозов. А ещё, с теплотой вспоминая, лёжа на печи, в такое время, как, приходили родственники сидели за одним столом, чаёвничали, пели песни,плясали. Было дружно и по-домашнему, с теплотой, душевно. Во время войны Дедушка Фома защищал город Ленинград на Пулковских высотах, все эти блокадные дни. Дедушке тогда было 46 лет. Зима 1941-42 г.^ выдалась очень морозная и снежная. Начался голод - 500 грамм хлеба, а потом и того меньше= это норма продовольственная была в день для солдат. На Пулковском рубеже были ожесточённые бои. Тогда был издан приказ: «Ни шагу назад. Не сдавать ни одного вершка земли на ближайших подступах к Ленинграду!» Самолёты всё время сбрасывали авиабомбы, шёл непрерывный обстрел артиллерии в течении дня и ночи». «Путь фашистам почти открыт, в этом нет сомнения, но вдруг происходит невероятное.^ Бронированная громада отборных частей вермахта задержана ополченцами и моряками на реке Воронке, под Урицком и Пулковом у стен Ижорского завода.» 27 января 1944 г. - снята блокада Ленинграда. Я горжусь своим дедом, который был там и вместе с воинами, солдатами не пропустил врага в город. Слава героям, слава воинам!!! Когда дедушка ушёл на фронт, бабушке пришлось эвакуироваться с детьми в Архангельскую область. С собой можно было взять только самое необходимое. Собирались быстро, в спешке. Мама моя рассказывала по воспоминаниям семьи. Взяли немного хлеба, одежды. Бабушка ещё взяла швейную машинку, зная, она пригодиться для шитья одежды в будущем (но её украли в последствии у бабушки). Очень она потом плакала и переживала. До города Петрозаводска добирались на лошадиных подводах, а далее на баржах. С воздуха бомбили вражеские самолеты. Они видели, как падали авиабомбы рядом с баржей, а одна попала прямо в цель. Было страшно, вой снарядов, гул самолетов - крики, плач. Чудом осталась жива моя мама Оля. Они плыли на барже и вот рядом с ними упал снаряд. Люди начали падать от взрывной волны в воздух, в воду, некоторые тонули, были и убитые. Большой чемодан подлетел, бельё вылетело, он широко открылся и мама влетела прямо в него. А так, как мама была и по возрасту (1935 г.р.) и по росту, её это спасло. В Архангельскую область они добрались, кое-как устроились. Жизнь была нелёгкая. Продукты начали заканчиваться, детям очень хотелось кушать. Пока бабушка Саша работала, дети находились дома - брату Мише было 8 лет, моей маме 6 лет. Первое время пекли лепёшки из крапивы, опилок, варили картофельные очистки. Мама вспоминая, рассказывая о войне плакала, по щекам текли слёзы. Нелегко, тяжело было на чужом месте. Голод, тоска по родному краю, да ещё обидно, называли местные по своему «ковырянные», т.е. эвакуированные. Мою маму подружка, которая тоже была эвакуирована с нашей деревни, Тася, позвала с собой пойти по домам. Вот они в простеньких платьицах с фартучками пошли. Заходя в дома просили пустить их помыть посуду, полы, присмотреть за маленькими детьми, хотя они сами были ещё маленькие. Одни прогоняли, дразнили, обзывали, но были и такие, что говорили: «Спойте лучше песенку». И мы пели, а у слушающих текли слёзы из глаз. Они нам в фартучки клали, то печенье, яблоки и хлебушек, вареные яйца. Мы радостные шли домой. Но, придя домой и разделив всё со своими братьями и сестрами, было очень мало. На следующий день, мы снова шли петь песни. Я всегда спрашивала у мамы, почему у тебя такой звонкий голос? Она пела красиво и на русском, и на карельском языке. Участвовала в выступлениях группы «КГБ» ( группа корзинских бабушек). Она мне отвечала, что в эвакуации голос развился и распелся. Когда в 1944 году освободили Карелию какая была радость, что можно вернуться в свою деревню. Были слёзы, но от радости. Дедушка Фома после окончания войны вернулся домой. Награжден медалями, а также медалью за «Блокадный Ленинград». Умер в 1977 году. Его старшая дочь, моя тётя Анна 1920 года рождения -тоже участница ВОВ была санитаркой, окончила войну рядовой. Там и познакомилась со своим будущем мужем, Филатовым Михаилом Леонидовичем. Он был артиллеристом, имел звание лейтенант. В феврале 1945 года, оказавшись в одной части, образовали семью и воспитали четверых детей. Помним подвиг твой, Ленинград! Слава героям!
October 30, 2025 in 13:24 Александра Родионова
- changed the text of the translation
Мой дедушка - Ермолаев Фома Матвеевич жил в д.^ Рубчойла. Жена - Жукова Александра Григорьевна, родом из деревни Нижняя Салма. Жили они в родительском деревянном двухэтажном доме, где под одной крышей были жилые комнаты, хозяйственные пристройки : кладовые, хлев для скота, сеновал, к которому был пристроен деревянный настил , чтобы лошадь могла завозить сено под крышу для хранения на зиму. Рядом с домами огород , амбар, для хранения зерна, ягод в бочках и грибов, банька по-чёрному. Я была маленькой, ходила в неё мыться с мамой и бабушкой. Едкий дым , когда топилась баня, доводил до слёз. Во время посещения бани сажа цеплялась за руки, ноги,| а если темно, тогда пользовались лучиной или свечкой. В хозяйстве у карел имелась корова, телёночек; овцы, свиньи, куры. Трудолюбивые были, все умели.. В доме добротно построенные дедушкой Фомой скамейки, табуреты, стол, кровать, диван, шкаф, кухонная утварь. Изготавливал - плуги, соху, для вспашки земли, черенки для лопат, вил, топоров, а также умел плести корзины из лучины и мётла из веток деревьев, как для себя , так и для соседей, но и в помощь колхозу. В нашей деревне Рубчойла был колхоз « Победа». И председателем был мой дедушка - Фома Матвеевич. Но, когда, началась война, он ушёл защищать Родину, а печать и документы , где записаны и трудодни отдал Никитиной Марии Фёдоровне - счетоводу колхоза. До окончания войны она сохранила документы. У дедушки и бабушки, родились пятеро детей. Моя мама - Оля была самой младшей в семье (1935 года). Бабушку все звали «Шурачой», умела ткать половики, одной спицей вязать носки и рукавицы, пекла калитки вкусные, готовила еду, управлялась со скотиной, огородом. Очень любила ходить в лес по грибы, ягоды. В печи сушили мелкую рыбку - «сущик», а потом варили вкусные рыбные супчики, пекли рыбники. Мы маленькие, внуки, часто грелись на этой печи, спали после морозов. А ещё, с теплотой вспоминая, лёжа на печи, в такое время, как, приходили родственники сидели за одним столом, чаёвничали, пели песни,плясали. Было дружно и по-домашнему, с теплотой, душевно. Во время войны Дедушка Фома защищал город Ленинград на Пулковских высотах, все эти блокадные дни. Дедушке тогда было 46 лет. Зима 1941-42 г.^ выдалась очень морозная и снежная. Начался голод - 500 грамм хлеба, а потом и того меньше= это норма продовольственная была в день для солдат. На Пулковском рубеже были ожесточённые бои. Тогда был издан приказ: «Ни шагу назад. Не сдавать ни одного вершка земли на ближайших подступах к Ленинграду!» Самолёты всё время сбрасывали авиабомбы, шёл непрерывный обстрел артиллерии в течении дня и ночи». «Путь фашистам почти открыт, в этом нет сомнения, но вдруг происходит невероятное. Бронированная громада отборных частей вермахта задержана ополченцами и моряками на реке Воронке, под Урицком и Пулковом у стен Ижорского завода.» 27 января 1944 г. - снята блокада Ленинграда. Я горжусь своим дедом, который был там и вместе с воинами, солдатами не пропустил врага в город. Слава героям, слава воинам!!! Когда дедушка ушёл на фронт, бабушке пришлось эвакуироваться с детьми в Архангельскую область. С собой можно было взять только самое необходимое. Собирались быстро, в спешке. Мама моя рассказывала по воспоминаниям семьи. Взяли немного хлеба, одежды. Бабушка ещё взяла швейную машинку, зная, она пригодиться для шитья одежды в будущем (но её украли в последствии у бабушки). Очень она потом плакала и переживала. До города Петрозаводска добирались на лошадиных подводах, а далее на баржах. С воздуха бомбили вражеские самолеты. Они видели, как падали авиабомбы рядом с баржей, а одна попала прямо в цель. Было страшно, вой снарядов, гул самолетов - крики, плач. Чудом осталась жива моя мама Оля. Они плыли на барже и вот рядом с ними упал снаряд. Люди начали падать от взрывной волны в воздух, в воду, некоторые тонули, были и убитые. Большой чемодан подлетел, бельё вылетело, он широко открылся и мама влетела прямо в него. А так, как мама была и по возрасту (1935 г.р.) и по росту, её это спасло. В Архангельскую область они добрались, кое-как устроились. Жизнь была нелёгкая. Продукты начали заканчиваться, детям очень хотелось кушать. Пока бабушка Саша работала, дети находились дома - брату Мише было 8 лет, моей маме 6 лет. Первое время пекли лепёшки из крапивы, опилок, варили картофельные очистки. Мама вспоминая, рассказывая о войне плакала, по щекам текли слёзы. Нелегко, тяжело было на чужом месте. Голод, тоска по родному краю, да ещё обидно, называли местные по своему «ковырянные», т.е. эвакуированные. Мою маму подружка, которая тоже была эвакуирована с нашей деревни, Тася, позвала с собой пойти по домам. Вот они в простеньких платьицах с фартучками пошли. Заходя в дома просили пустить их помыть посуду, полы, присмотреть за маленькими детьми, хотя они сами были ещё маленькие. Одни прогоняли, дразнили, обзывали, но были и такие, что говорили: «Спойте лучше песенку». И мы пели, а у слушающих текли слёзы из глаз. Они нам в фартучки клали, то печенье, яблоки и хлебушек, вареные яйца. Мы радостные шли домой. Но, придя домой и разделив всё со своими братьями и сестрами, было очень мало. На следующий день, мы снова шли петь песни. Я всегда спрашивала у мамы, почему у тебя такой звонкий голос? Она пела красиво и на русском, и на карельском языке. Участвовала в выступлениях группы «КГБ» ( группа корзинских бабушек). Она мне отвечала, что в эвакуации голос развился и распелся. Когда в 1944 году освободили Карелию какая была радость, что можно вернуться в свою деревню. Были слёзы, но от радости. Дедушка Фома после окончания войны вернулся домой. Награжден медалями, а также медалью за «Блокадный Ленинград». Умер в 1977 году. Его старшая дочь, моя тётя Анна 1920 года рождения -тоже участница ВОВ была санитаркой, окончила войну рядовой. Там и познакомилась со своим будущем мужем, Филатовым Михаилом Леонидовичем. Он был артиллеристом, имел звание лейтенант. В феврале 1945 года, оказавшись в одной части, образовали семью и воспитали четверых детей. Помним подвиг твой, Ленинград! Слава героям!
October 30, 2025 in 13:22 Александра Родионова
- changed the text of the translation
Мой дедушка - Ермолаев Фома Матвеевич жил в д.^ Рубчойла. Жена - Жукова Александра Григорьевна, родом из деревни Нижняя Салма. Жили они в родительском деревянном двухэтажном доме, где под одной крышей были жилые комнаты, хозяйственные пристройки : кладовые, хлев для скота, сеновал, к которому был пристроен деревянный настил , чтобы лошадь могла завозить сено под крышу для хранения на зиму. Рядом с домами огород , амбар, для хранения зерна, ягод в бочках и грибов, банька по-чёрному. Я была маленькой, ходила в неё мыться с мамой и бабушкой. Едкий дым , когда топилась баня, доводил до слёз. Во время посещения бани сажа цеплялась за руки, ноги,| а если темно, тогда пользовались лучиной или свечкой. В хозяйстве у карел имелась корова, телёночек; овцы, свиньи, куры. Трудолюбивые были, все умели.. В доме добротно построенные дедушкой Фомой скамейки, табуреты, стол, кровать, диван, шкаф, кухонная утварь. Изготавливал - плуги, соху, для вспашки земли, черенки для лопат, вил, топоров, а также умел плести корзины из лучины и мётла из веток деревьев, как для себя , так и для соседей, но и в помощь колхозу. В нашей деревне Рубчойла был колхоз « Победа». И председателем был мой дедушка - Фома Матвеевич. Но, когда, началась война, он ушёл защищать Родину, а печать и документы , где записаны и трудодни отдал Никитиной Марии Фёдоровне - счетоводу колхоза. До окончания войны она сохранила документы. У дедушки и бабушки, родились пятеро детей. Моя мама - Оля была самой младшей в семье (1935 года). Росли дети, стали помогать по хозяйству. Бабушку все звали «Шурачой», умела ткать половики, одной спицей вязать носки и рукавицы, пекла калитки вкусные, готовила еду, управлялась со скотиной, огородом. Очень любила ходить в лес по грибы, ягоды. В печи сушили мелкую рыбку - «сущик», а потом варили вкусные рыбные супчики, пекли рыбники. Мы маленькие, внуки, часто грелись на этой печи, спали после морозов. А ещё, с теплотой вспоминая, лёжа на печи, в такое время, как, приходили родственники сидели за одним столом, чаёвничали, пели песни,плясали. Было дружно и по-домашнему, с теплотой, душевно. Во время войны Дедушка Фома защищал город Ленинград на Пулковских высотах, все эти блокадные дни. Зима 1941-42 г. выдалась очень морозная и снежная. Начался голод - 500 грамм хлеба, а потом и того меньше= это норма продовольственная была в день для солдат. На Пулковском рубеже были ожесточённые бои. Тогда был издан приказ: «Ни шагу назад. Не сдавать ни одного вершка земли на ближайших подступах к Ленинграду!» Самолёты всё время сбрасывали авиабомбы, шёл непрерывный обстрел артиллерии в течении дня и ночи». «Путь фашистам почти открыт, в этом нет сомнения, но вдруг происходит невероятное. Бронированная громада отборных частей вермахта задержана ополченцами и моряками на реке Воронке, под Урицком и Пулковом у стен Ижорского завода.» 27 января 1944 г. - снята блокада Ленинграда. Я горжусь своим дедом, который был там и вместе с воинами, солдатами не пропустил врага в город. Слава героям, слава воинам!!! Когда дедушка ушёл на фронт, бабушке пришлось эвакуироваться с детьми в Архангельскую область. С собой можно было взять только самое необходимое. Собирались быстро, в спешке. Мама моя рассказывала по воспоминаниям семьи. Взяли немного хлеба, одежды. Бабушка ещё взяла швейную машинку, зная, она пригодиться для шитья одежды в будущем (но её украли в последствии у бабушки). Очень она потом плакала и переживала. До города Петрозаводска добирались на лошадиных подводах, а далее на баржах. С воздуха бомбили вражеские самолеты. Они видели, как падали авиабомбы рядом с баржей, а одна попала прямо в цель. Было страшно, вой снарядов, гул самолетов - крики, плач. Чудом осталась жива моя мама Оля. Они плыли на барже и вот рядом с ними упал снаряд. Люди начали падать от взрывной волны в воздух, в воду, некоторые тонули, были и убитые. Большой чемодан подлетел, бельё вылетело, он широко открылся и мама влетела прямо в него. А так, как мама была и по возрасту (1935 г.р.) и по росту, её это спасло. В Архангельскую область они добрались, кое-как устроились. Жизнь была нелёгкая. Продукты начали заканчиваться, детям очень хотелось кушать. Пока бабушка Саша работала, дети находились дома - брату Мише было 8 лет, моей маме 6 лет. Первое время пекли лепёшки из крапивы, опилок, варили картофельные очистки. Мама вспоминая, рассказывая о войне плакала, по щекам текли слёзы. Нелегко, тяжело было на чужом месте. Голод, тоска по родному краю, да ещё обидно, называли местные по своему «ковырянные», т.е. эвакуированные. Мою маму подружка, которая тоже была эвакуирована с нашей деревни, Тася, позвала с собой пойти по домам. Вот они в простеньких платьицах с фартучками пошли. Заходя в дома просили пустить их помыть посуду, полы, присмотреть за маленькими детьми, хотя они сами были ещё маленькие. Одни прогоняли, дразнили, обзывали, но были и такие, что говорили: «Спойте лучше песенку». И мы пели, а у слушающих текли слёзы из глаз. Они нам в фартучки клали, то печенье, яблоки и хлебушек, вареные яйца. Мы радостные шли домой. Но, придя домой и разделив всё со своими братьями и сестрами, было очень мало. На следующий день, мы снова шли петь песни. Я всегда спрашивала у мамы, почему у тебя такой звонкий голос? Она пела красиво и на русском, и на карельском языке. Участвовала в выступлениях группы «КГБ» ( группа корзинских бабушек). Она мне отвечала, что в эвакуации голос развился и распелся. Когда в 1944 году освободили Карелию какая была радость, что можно вернуться в свою деревню. Были слёзы, но от радости. Дедушка Фома после окончания войны вернулся домой. Награжден медалями, а также медалью за «Блокадный Ленинград». Умер в 1977 году. Его старшая дочь, моя тётя Анна 1920 года рождения -тоже участница ВОВ была санитаркой, окончила войну рядовой. Там и познакомилась со своим будущем мужем, Филатовым Михаилом Леонидовичем. Он был артиллеристом, имел звание лейтенант. В феврале 1945 года, оказавшись в одной части, образовали семью и воспитали четверых детей. Помним подвиг твой, Ленинград! Слава героям!
October 30, 2025 in 13:19 Александра Родионова
- changed the text of the translation
Мой дедушка - Ермолаев Фома Матвеевич жил в д.^ Рубчойла. Жена - Жукова Александра Григорьевна, родом из деревни Нижняя Салма. Жили они в родительском деревянном двухэтажном доме, где под одной крышей были жилые комнаты, хозяйственные пристройки : кладовые, хлев для скота, сеновал, к которому был пристроен деревянный настил , чтобы лошадь могла завозить сено под крышу для хранения на зиму. Рядом с домами огород , амбар, для хранения зерна, ягод в бочках и грибов, банька по-чёрному. Я была маленькой, ходила в неё мыться с мамой и бабушкой. Едкий дым , когда топилась баня, доводил до слёз. Во время посещения бани сажа цеплялась за руки, ноги,| а если темно, тогда пользовались лучиной или свечкой. В хозяйстве у карел имелась корова, телёночек; овцы, свиньи, куры. Трудолюбивые были, все умели.. В доме добротно построенные дедушкой Фомой скамейки, табуреты, стол, кровать, диван, шкаф, кухонная утварь. Изготавливал - плуги, соху, для вспашки земли, черенки для лопат, вил, топоров, а также умел плести корзины из лучины и мётла из веток деревьев, как для себя , так и для соседей, но и в помощь колхозу. В нашей деревне Рубчойла был колхоз « Победа». И председателем был мой дедушка - Фома Матвеевич. Но, когда, началась война, он ушёл защищать Родину, а печать и документы , где записаны и трудодни отдал Никитиной Марии Фёдоровне - счетоводу колхоза. До окончания войны она сохранила документы. У дедушки и бабушки, родились пятеро детей. Моя мама - Оля была самой младшей в семье (1935 года). Росли дети, стали помогать по хозяйству. Бабушку все звали «Шурачой», умела ткать половики, одной спицей вязать носки и рукавицы, пекла калитки вкусные, готовила еду, управлялась со скотиной, огородом. Очень любила ходить в лес по грибы, ягоды. В печи сушили мелкую рыбку - «сущик», а потом варили вкусные рыбные супчики, пекли рыбники. Мы маленькие, внуки, часто грелись на этой печи, спали после морозов. А ещё, с теплотой вспоминая, лёжа на печи, в такое время, как, приходили родственники сидели за одним столом, чаёвничали, пели песни,плясали. Было дружно и по-домашнему, с теплотой, душевно. Во время войны Дедушка Фома защищал город Ленинград на Пулковских высотах, все эти блокадные дни. Зима 1941-42 г. выдалась очень морозная и снежная. Начался голод - 500 грамм хлеба, а потом и того меньше= это норма продовольственная была в день для солдат. На Пулковском рубеже были ожесточённые бои. Тогда был издан приказ: «Ни шагу назад. Не сдавать ни одного вершка земли на ближайших подступах к Ленинграду!» Самолёты всё время сбрасывали авиабомбы, шёл непрерывный обстрел артиллерии в течении дня и ночи». «Путь фашистам почти открыт, в этом нет сомнения, но вдруг происходит невероятное. Бронированная громада отборных частей вермахта задержана ополченцами и моряками на реке Воронке, под Урицком и Пулковом у стен Ижорского завода.» 27 января 1944 г. - снята блокада Ленинграда. Я горжусь своим дедом, который был там и вместе с воинами, солдатами не пропустил врага в город. Слава героям, слава воинам!!! Когда дедушка ушёл на фронт, бабушке пришлось эвакуироваться с детьми в Архангельскую область. С собой можно было взять только самое необходимое. Собирались быстро, в спешке. Мама моя рассказывала по воспоминаниям семьи. Взяли немного хлеба, одежды. Бабушка ещё взяла швейную машинку, зная, она пригодиться для шитья одежды в будущем (но её украли в последствии у бабушки). Очень она потом плакала и переживала. До города Петрозаводска добирались на лошадиных подводах, а далее на баржах. С воздуха бомбили вражеские самолеты. Они видели, как падали авиабомбы рядом с баржей, а одна попала прямо в цель. Было страшно, вой снарядов, гул самолетов - крики, плач. Чудом осталась жива моя мама Оля. Они плыли на барже и вот рядом с ними упал снаряд. Люди начали падать от взрывной волны в воздух, в воду, некоторые тонули, были и убитые. Большой чемодан подлетел, бельё вылетело, он широко открылся и мама влетела прямо в него. А так, как мама была и по возрасту (1935 г.р.) и по росту, её это спасло. В Архангельскую область они добрались, кое-как устроились. Жизнь была нелёгкая. Продукты начали заканчиваться, детям очень хотелось кушать. Пока бабушка Саша работала, дети находились дома - брату Мише было 8 лет, моей маме 6 лет. Первое время пекли лепёшки из крапивы, опилок, варили картофельные очистки. Мама вспоминая, рассказывая о войне плакала, по щекам текли слёзы. Нелегко, тяжело было на чужом месте. Голод, тоска по родному краю, да ещё обидно, называли местные по своему «ковырянные», т.е. эвакуированные. Мою маму подружка, которая тоже была эвакуирована с нашей деревни, Тася, позвала с собой пойти по домам. Вот они в простеньких платьицах с фартучками пошли. Заходя в дома просили пустить их помыть посуду, полы, присмотреть за маленькими детьми, хотя они сами были ещё маленькие. Одни прогоняли, дразнили, обзывали, но были и такие, что говорили: «Спойте лучше песенку». И мы пели, а у слушающих текли слёзы из глаз. Они нам в фартучки клали, то печенье, яблоки и хлебушек, вареные яйца. Мы радостные шли домой. Но, придя домой и разделив всё со своими братьями и сестрами, было очень мало. На следующий день, мы снова шли петь песни. Я всегда спрашивала у мамы, почему у тебя такой звонкий голос? Она пела красиво и на русском, и на карельском языке. Участвовала в выступлениях группы «КГБ» ( группа корзинских бабушек). Она мне отвечала, что в эвакуации голос развился и распелся. Когда в 1944 году освободили Карелию какая была радость, что можно вернуться в свою деревню. Были слёзы, но от радости. Дедушка Фома после окончания войны вернулся домой. Награжден медалями, а также медалью за «Блокадный Ленинград». Умер в 1977 году. Его старшая дочь, моя тётя Анна 1920 года рождения -тоже участница ВОВ была санитаркой, окончила войну рядовой. Там и познакомилась со своим будущем мужем, Филатовым Михаилом Леонидовичем. Он был артиллеристом, имел звание лейтенант. В феврале 1945 года, оказавшись в одной части, образовали семью и воспитали четверых детей. Помним подвиг твой, Ленинград! Слава героям!
October 30, 2025 in 13:12 Александра Родионова
- changed the text of the translation
Мой дедушка - Ермолаев Фома Матвеевич жил в д.^ Рубчойла. Жена - Жукова Александра Григорьевна, родом из деревни Нижняя Салма. Жили они в родительском деревянном двухэтажном доме, где под одной крышей были жилые комнаты, хозяйственные пристройки : кладовые, хлев для скота, сеновал, к которому был пристроен деревянный настил , чтобы лошадь могла завозить сено под крышу для хранения на зиму. Рядом с домами огород , амбар, для хранения зерна, ягод в бочках и грибов, банька по-чёрному. Я была маленькой, ходила в неё мыться с мамой и бабушкой. Едкий дым , когда топилась баня, доводил до слёз. Во время посещения бани сажа цеплялась за руки, ноги, а если темно, тогда пользовались лучиной или свечкой. В хозяйстве у карел имелась корова, телёночек; овцы, свиньи, куры. Трудолюбивые были, все умели.. В доме добротно построенные дедушкой Фомой скамейки, табуреты, стол, кровать, диван, шкаф, кухонная утварь. Изготавливал - плуги, соху, для вспашки земли, черенки для лопат, вил, топоров, а также умел плести корзины из лучины и мётла из веток деревьев, как для себя , так и для соседей, но и в помощь колхозу. В нашей деревне Рубчойла был колхоз « Победа». И председателем был мой дедушка - Фома Матвеевич. Но, когда, началась война, он ушёл защищать Родину, а печать и документы , где записаны и трудодни отдал Никитиной Марии Фёдоровне - счетоводу колхоза. До окончания войны она сохранила документы. У дедушки и бабушки, родились пятеро детей. Моя мама - Оля была самой младшей в семье (1935 года). Росли дети, стали помогать по хозяйству. Бабушку все звали «Шурачой», умела ткать половики, одной спицей вязать носки и рукавицы, пекла калитки вкусные, готовила еду, управлялась со скотиной, огородом. Очень любила ходить в лес по грибы, ягоды. В печи сушили мелкую рыбку - «сущик», а потом варили вкусные рыбные супчики, пекли рыбники. Мы маленькие, внуки, часто грелись на этой печи, спали после морозов. А ещё, с теплотой вспоминая, лёжа на печи, в такое время, как, приходили родственники сидели за одним столом, чаёвничали, пели песни,плясали. Было дружно и по-домашнему, с теплотой, душевно. Во время войны Дедушка Фома защищал город Ленинград на Пулковских высотах, все эти блокадные дни. Зима 1941-42 г. выдалась очень морозная и снежная. Начался голод - 500 грамм хлеба, а потом и того меньше= это норма продовольственная была в день для солдат. На Пулковском рубеже были ожесточённые бои. Тогда был издан приказ: «Ни шагу назад. Не сдавать ни одного вершка земли на ближайших подступах к Ленинграду!» Самолёты всё время сбрасывали авиабомбы, шёл непрерывный обстрел артиллерии в течении дня и ночи». «Путь фашистам почти открыт, в этом нет сомнения, но вдруг происходит невероятное. Бронированная громада отборных частей вермахта задержана ополченцами и моряками на реке Воронке, под Урицком и Пулковом у стен Ижорского завода.» 27 января 1944 г. - снята блокада Ленинграда. Я горжусь своим дедом, который был там и вместе с воинами, солдатами не пропустил врага в город. Слава героям, слава воинам!!! Когда дедушка ушёл на фронт, бабушке пришлось эвакуироваться с детьми в Архангельскую область. С собой можно было взять только самое необходимое. Собирались быстро, в спешке. Мама моя рассказывала по воспоминаниям семьи. Взяли немного хлеба, одежды. Бабушка ещё взяла швейную машинку, зная, она пригодиться для шитья одежды в будущем (но её украли в последствии у бабушки). Очень она потом плакала и переживала. До города Петрозаводска добирались на лошадиных подводах, а далее на баржах. С воздуха бомбили вражеские самолеты. Они видели, как падали авиабомбы рядом с баржей, а одна попала прямо в цель. Было страшно, вой снарядов, гул самолетов - крики, плач. Чудом осталась жива моя мама Оля. Они плыли на барже и вот рядом с ними упал снаряд. Люди начали падать от взрывной волны в воздух, в воду, некоторые тонули, были и убитые. Большой чемодан подлетел, бельё вылетело, он широко открылся и мама влетела прямо в него. А так, как мама была и по возрасту (1935 г.р.) и по росту, её это спасло. В Архангельскую область они добрались, кое-как устроились. Жизнь была нелёгкая. Продукты начали заканчиваться, детям очень хотелось кушать. Пока бабушка Саша работала, дети находились дома - брату Мише было 8 лет, моей маме 6 лет. Первое время пекли лепёшки из крапивы, опилок, варили картофельные очистки. Мама вспоминая, рассказывая о войне плакала, по щекам текли слёзы. Нелегко, тяжело было на чужом месте. Голод, тоска по родному краю, да ещё обидно, называли местные по своему «ковырянные», т.е. эвакуированные. Мою маму подружка, которая тоже была эвакуирована с нашей деревни, Тася, позвала с собой пойти по домам. Вот они в простеньких платьицах с фартучками пошли. Заходя в дома просили пустить их помыть посуду, полы, присмотреть за маленькими детьми, хотя они сами были ещё маленькие. Одни прогоняли, дразнили, обзывали, но были и такие, что говорили: «Спойте лучше песенку». И мы пели, а у слушающих текли слёзы из глаз. Они нам в фартучки клали, то печенье, яблоки и хлебушек, вареные яйца. Мы радостные шли домой. Но, придя домой и разделив всё со своими братьями и сестрами, было очень мало. На следующий день, мы снова шли петь песни. Я всегда спрашивала у мамы, почему у тебя такой звонкий голос? Она пела красиво и на русском, и на карельском языке. Участвовала в выступлениях группы «КГБ» ( группа корзинских бабушек). Она мне отвечала, что в эвакуации голос развился и распелся. Когда в 1944 году освободили Карелию какая была радость, что можно вернуться в свою деревню. Были слёзы, но от радости. Дедушка Фома после окончания войны вернулся домой. Награжден медалями, а также медалью за «Блокадный Ленинград». Умер в 1977 году. Его старшая дочь, моя тётя Анна 1920 года рождения -тоже участница ВОВ была санитаркой, окончила войну рядовой. Там и познакомилась со своим будущем мужем, Филатовым Михаилом Леонидовичем. Он был артиллеристом, имел звание лейтенант. В феврале 1945 года, оказавшись в одной части, образовали семью и воспитали четверых детей. Помним подвиг твой, Ленинград! Слава героям!
October 30, 2025 in 13:12 Александра Родионова
- created the text translation
June 16, 2025 in 17:17 Нина Шибанова
- created the text
- created the text: Minun died’oi Foma Matvejevič Jermolajev eli Rubčoilas. Hänen akkah Aleksandra Grigorjevna Žukova oli rodužin Salmenniškaspäi. Elettih hyö died’oin vahnembien kaksikerroksizes talois, kus yhten levon al oldih kai: eländypertit, aitat, liävät, heinysaruat, kunne hebo vedi heinii talvekse. Taloin rinnal pellot, piha-aittu, riihi, mustu kyly. Konzu minä olin pieni, minä kyvyin pezevymäh buaban da muaman kel. Savu sie oli moine kargei, silmii čahloi kyynälissäh. Kylys olles pidi olla varavozeh: kosketannet käil libo jallal seiniä, se roihes noves. Ku lienne kylys oli pimei, sit viritettih tuohus libo päre. Talois oli lehmy, vazaine, lammastu, poččii da kanua. Ruattih äijän, kaikkie maltettih. Kois oldih Foma-died’oin azutut laučat, stolat, magavosijat,divan, škuappu, ruadobrujat da kodivehkehet. Häi iče luadi astavat, adrat, hangot, kirvehet, havarat, punoi viršii ičele da susiedoile, kolhozahgi vedi. Rubčois oli kolhozu “Pobeda”, piälikönny oli Foma-died’oi. Konzu algavui voinu, died’oi lähti puolistamah omua muadu. Pečatin da dokumentat, kunne kirjutettih trudopäivät, andoi kolhozan sčetovodale Marija F’odorovna Nikitinale. Voinan loppuh suate häi pidi ruokos nenii dokumentoi. Buabal da died’oil oli viizi lastu. Minun muamo Ol’a oli kaikis nuorin. Buabo, kaikin sanottih händy Šuračoi, maltoi kuduo hurstii, yhtel nieglal niegluo kindahii da sukkii, pastoi magiedu näppipiiraidu, hoidi kodižiivattoi da peldomualoi. Ylen äijäl häi suvaičči kävvä meččäh marjah da sieneh. Päčis myö aivin kuivailimmo hienuo klalua, luajimmo maimua, sit jälles keitimmö kalaliendy, pastoimmo kalakurniekkua. Myö, bunukat, pienet suvaičimmo suurel päčil lämbie da muata. Toiči viruimmo päčil da kačoimmo da kuundelimmo, kui vahnembat istuttih stolas, juodih čuajuu, pajatettih da pläšittih. Elettih hyvin da sobuh, auttajen da ellendäjen toine tostu. Voinal olles died’oi puutui Leningruadan lohkole, häi oli Pulkovan mägilöil kaiken Leningruadan ymbäröičyksen aigua. Died’oil oli silloi 46 vuottu. Talvi 1941–1942 oli ylen kylmy da pakkaine. Konzu rodih suuri nälgy, annettih 500 grammua leibiä päiväkse, sit vie vähembän — moine oli normu saldattoih nähte. Pulkovan mägilöil oldih ylen suuret torat. Ga oli käsky: “Ni askeldu tuakse päi. Ni verškua muadu Leningruadan lähevil”! Lendokonehet ainos bombitettih, artillerii ambui heittelemättäh. Jo lähes puhtas oli piäzy linnah, ga vihamiehii vastustettih merimiehet da saldatat Voronka-jovel, Ižoran zavodan seinien tyves. Vuvvennu 1944 pakkaskuun 27.^ päivänny oli katkattu Leningruadan ymbäröičys. Minä olen ylbei, ku minungi died’oi oli niilöin joukos, ket puolistettih linnua, ket ei piästetty vihaniekkoi Leningruadah. Igäine kunnivo heile da kumardus muassah! Konzu died’oi lähti voinale, buabo lapsien kel meni evakkoh Arhangelih. Keräle sai ottua vaigu tarvittavat. Kerävyttih kiirehel kamul. Otettih vähäine leibiä, sobua. Buabo otti ombelusmašinaizen, ku vois ommelta sobua. Se jälles varrastettih, buabo ylen äijäl žiälöičči sidä da itki. Petroskoissah piästih delegäs, sit baržoil. Ylähänpäi bombitettih. Hyö nähtih, kui bombat pakutah juuri baržan rinnal, oli hirvei – ammundu, itku. Minun muamo odva jäi hengih. Baržan rinnal räjähtih bombu da nouzi suuri aldo. Erähät rahvas pakuttih vedeh, upottih. Suuri čamodan nouzi allon kel yläh, sovat siepäi pakuttih, a mumo kuilienne puutui sen sydämeh. Muamo oli 1935 vuottu, oli pieni kazvol, da se čamodan pellasti hänen. Arhangelis olles elaigu oli jygei. Kuni buabo oli ruavos, lapset oldih kois. Mišal oli kaheksa vuottu, Ol’al – kuuzi. Allus pastettih lettuu žiilois, pilajauhos, keitettih kartohkan kuorii. Muamo voinua mustelles aivin itki, vaigei da paha oli vierahas kohtas. Nälgy, kodi-igävy, abei, ku paikallizet sanottih tulolazii “kovir’annije” – evakuirovannije. Kerran minun muamo da hänen podruugu Tas’a, sežo rubčoilaine, lähtiettih kodiloi myöte, tarittih abuu: astiet da lattiet pestä, lapsii kaččuo, hos iče ei oldu suuret. Yhtet ajettih iäres, toizet riäziteltih, kirottih, oligi mostu, ket sanottih – pajatakkua parembi. Neičykät pajatettih, kuundelijat itkiettih. Annettih sit peččii, juablokkua da leibiä, keitettyy jäiččiä. Lapset ihastuttih juostih kodih. Kodih tulduu da omahizien syömizet juattuu kerras syödih. Tossu piän uvvessah lähtiettih pajattamah. Ainos kyzyin muamal, mindäh hänel on moine helei iäni. Häi hyvin pajatti ven’akse dai karjalakse. Pajatti KGB-joukos (KGB – Korzinskaja gruppa babušek -pajoujoukko – toim.). Muamo vastai, ku evakos opastui pajattamah. Konzu vuvvennu 1944 Karjal piästettih vihamiehis, oligo ihastustu, ku voibi kodih kiändyö. Voinan loppuhuu Foma-died’oi tuli kodih. Hänel oli medaliloi, niilöin luvusgi “Leningruadan puolistamizes”. Died’oi kuoli vuvvennu 1977. Died’oin da buaban vahnembi Anni-tytär 1920 vuottu sežo oli voinal, oli sanitarkannu, loppi voinan r’adovoin čiinus. Voinal olles tuttavui Mihail Leonidovič Filatovan kel, häi oli artilleristannu leitenantan čiinus. Vuvvennu 1945 tuhukuul hyö mendih yhteh da suadih nelli lastu. Mustammo teijän urhotevon, oman muan puolistajat! Kunnivo teile!